Истории ветеранов
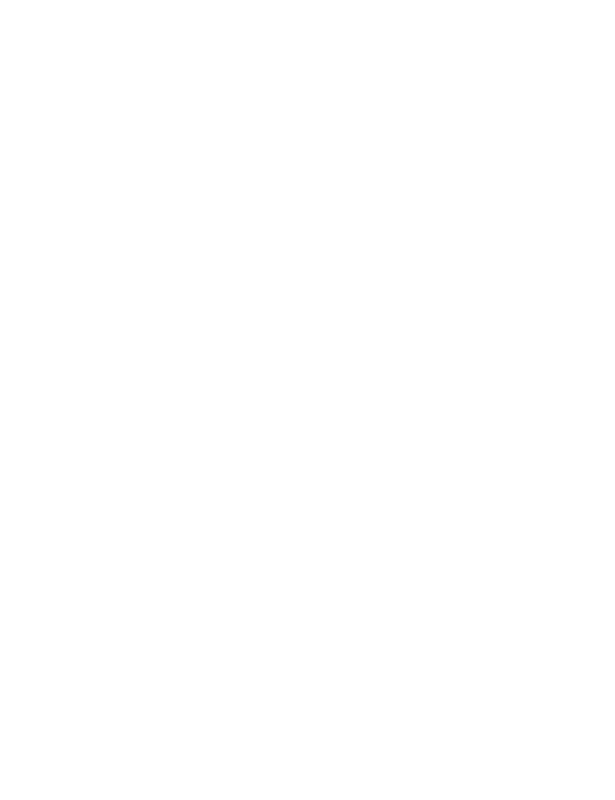
ОПЯКИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Мастер инструментального цеха Севмаша
Награжден знаком «Отличный связист»
Мастер инструментального цеха Севмаша
Награжден знаком «Отличный связист»
РЯДОВОЙ ОПЯКИН ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ
Призывная комиссия определила его коком, а служить выпало связистом. Повестку военкомат выдал в 1940 году, а демобилизация пришла только в 46-м. Линия обороны для бойца начиналась на Ленинградском, а завершилась на Забайкальском фронте. Таковы расстояния и контрасты войны.
Кок из новобранца Александра Опякина не состоялся. В учебном отряде на Соловках из строя его вывела... пневмония. После трех месяцев болезни моряку определили место в каптерке. Хранить обмундирование. А вскоре поступило распоряжение и вовсе оставить Белое море и прибыть в Ленинград, в штаб Балтийского флота. Дата на документе - 14 июня 1941 года.
Войну моряк-балтиец встретил в составе 206-го отдельного батальона связи. Правда, перемещаться с рацией между взводами и ротами не приходилось, так ведь и линия фронта была весьма условной. Она проходила как западнее, так и восточнее. Враг стремился взять Ленинград в кольцо блокады, а нашим защитникам предстояло это кольцо разомкнуть. «Чтобы ослабить силы противника, формировались даже партизанские отряды, - вспоминает Александр Андреевич». Организация светомаскировок, оказание помощи раненым и слабым, учеба на курсах младших командиров - и все это на фоне непрерывных бомбежек и поиска пропитания. Дистрофия в очередной раз привела Опякина в госпиталь на Васильевском острове. А оттуда через два месяца - на место нового назначения, к Ладожскому озеру.
Штаб батальона связи расположился вблизи Шлиссельбурга, в поселке Морозовка. Стал служить при нем и Опякин. У него, да еще у Александра Русанова, обнаружили незаурядную каллиграфию, за что и определили в писари. Но при первой же заминке на пункте связи они заменяли операторов. Ночью - дежурство, днем - в штабной землянке, или наоборот. По мере наступления наших войск, менялись места дислокации связистов. За освобождение города Тарту рядовой Опякин получает благодарность командира части. Победу однополчане встретили на окраине Риги.
Отсюда, с берегов Балтики, бывший матрос отправляется в составе эшелона на восток. Отличился боец и в борьбе против японских агрессоров. За форсирование горного хребта Большой Хинган и преодоление безводной монгольской степи командир батальона объявил ему благодарность. Он же, подполковник Портер, наградил рядового Опякина знаком «Отличный связист».
Мирная жизнь фронтовика началась с нашего предприятия. Днем учился работать на немецком токарном станке в инструментальном цехе, вечером проходил занятия по теории. И так в течение полугода. В первый же послевоенный год Опякин стал семьянином, выбрав в жены Елизавету Михайловну. Парторг помог получить комнату.
Без малого 30 лет отдал Александр Андреевич инструментальному цеху, чередуя работу у станка и обязанности мастера.
ОТ ЮНГИ ДО КАПИТАНА
Многие мальчишки военной поры прошли этот путь. Такая судьба выпала и Альберту Федоровичу Корзину. От Соловецкой школы юнг до капитана дальнего плавания.
На Северный флот ярославский парнишка попал в четырнадцать лет. В юнги принимали только с шестнадцати, но отец еще в начале войны исправил метрику, приписав сыну лишние пару лет. Приписал для того, чтобы тот мог поступить в ремесленное училище. Дополнительная пайка хлеба для большой семьи - огромное подспорье в голодные военные годы. Да и сидеть сложа руки мальчишка не мог. Дети одновременно учились и работали на заводе наравне со взрослыми по двенадцать часов. Годом позже в Ярославское ремесленное училище пришла разнарядка из школы юнг...
В конце августа 1943 года будущих юнг теплушками довезли до Архангельска, баржей переправили в Соломбалу, где располагался штаб Беломорской военно-морской базы, дальше - на Соловки. Обучали азам навигации, астрономии, метеорологии, гидрографии и многому другому. Необходимый минимум знаний освоили за год. И уже в октябре 1944-го выпускников распределили по флотам.
Альберт Корзин попал на Северный. Юнга-рулевой служил на морских охотниках, сопровождавших караваны союзников. Приходилось и под бомбежки попадать, и выдерживать атаки немецких кораблей и подлодок. Постепенно линия фронта уходила все дальше от границ СССР, весть о Победе моряки встретили в бухте Лиинахамари.
- Вечером 8 мая 1945 года на кораблях союзников вдруг начали палить из всех орудий, мы удивились. И только на следующий день узнали, что войне конец, тогда и мы канонаду устроили! - рассказывал А.Ф. Корзин позднее в книге о соловецких юнгах из Ярославля «Море зовет смелых».
Как и многие военные моряки, Корзин не оставил службу после объявления капитуляции Германии. Несколько лет прослужил он в бригаде тральщиков, за что и удостоен своей первой награды - медали «За боевые заслуги». В конце 1948 года опытный моряк получил направление в школу командиров малых кораблей в Сортавале. Окончив ее, стал командиром группы рулевых на эсминце «Гремящий», который в то время проходил ремонт в Молотовске. Здесь и нашел свою любовь. На катке познакомился с девочкой Валей, подружились, стали встречаться... Молодая жена наотрез отказалась ехать в Ярославль: не хотела расставаться с морем, с малой родиной. Так решилась судьба моряка - он надолго связал свою жизнь с Молотовском, с судостроительным заводом.
Свою работу на Севмашпредприятии начал в корпусном цехе, потом перешел в водно-транспортный цех рулевым на катера, был помощником капитана на паровых буксирах прибрежного плавания, принимал новейший буксир «Ломоносов», позже участвовал в переоборудовании «Лименды»... «Надо быть опытнейшим капитаном, - говорит о Корзине бывший начальник водно-транспортного цеха В.В. Тиммиев, - чтобы на маленьком утлом суденышке ходить по морю, особенно по Баренцеву. А Корзин ходил, сопровождая заказы».
В свой родной Ярославль Альберт Федорович вернулся лишь спустя многие годы, в конце 80-х, выйдя на заслуженный отдых. Но и там не сидел сложа руки - работал в спецшколе для несовершеннолетних, своим примером воспитывал молодежь.
...Каждый май встречаются выпускники Соловецкой школы юнг, вспоминают свое военное детство, боевые походы. К ним присоединяются ветераны Северных конвоев из других городов. К сожалению, год от года соловецких юнг становится все меньше. Альберта Федоровича Корзина нет с нами, но память о нем останется в сердцах родных и близких, друзей, сослуживцев, мальчишек военной поры.
Многие мальчишки военной поры прошли этот путь. Такая судьба выпала и Альберту Федоровичу Корзину. От Соловецкой школы юнг до капитана дальнего плавания.
На Северный флот ярославский парнишка попал в четырнадцать лет. В юнги принимали только с шестнадцати, но отец еще в начале войны исправил метрику, приписав сыну лишние пару лет. Приписал для того, чтобы тот мог поступить в ремесленное училище. Дополнительная пайка хлеба для большой семьи - огромное подспорье в голодные военные годы. Да и сидеть сложа руки мальчишка не мог. Дети одновременно учились и работали на заводе наравне со взрослыми по двенадцать часов. Годом позже в Ярославское ремесленное училище пришла разнарядка из школы юнг...
В конце августа 1943 года будущих юнг теплушками довезли до Архангельска, баржей переправили в Соломбалу, где располагался штаб Беломорской военно-морской базы, дальше - на Соловки. Обучали азам навигации, астрономии, метеорологии, гидрографии и многому другому. Необходимый минимум знаний освоили за год. И уже в октябре 1944-го выпускников распределили по флотам.
Альберт Корзин попал на Северный. Юнга-рулевой служил на морских охотниках, сопровождавших караваны союзников. Приходилось и под бомбежки попадать, и выдерживать атаки немецких кораблей и подлодок. Постепенно линия фронта уходила все дальше от границ СССР, весть о Победе моряки встретили в бухте Лиинахамари.
- Вечером 8 мая 1945 года на кораблях союзников вдруг начали палить из всех орудий, мы удивились. И только на следующий день узнали, что войне конец, тогда и мы канонаду устроили! - рассказывал А.Ф. Корзин позднее в книге о соловецких юнгах из Ярославля «Море зовет смелых».
Как и многие военные моряки, Корзин не оставил службу после объявления капитуляции Германии. Несколько лет прослужил он в бригаде тральщиков, за что и удостоен своей первой награды - медали «За боевые заслуги». В конце 1948 года опытный моряк получил направление в школу командиров малых кораблей в Сортавале. Окончив ее, стал командиром группы рулевых на эсминце «Гремящий», который в то время проходил ремонт в Молотовске. Здесь и нашел свою любовь. На катке познакомился с девочкой Валей, подружились, стали встречаться... Молодая жена наотрез отказалась ехать в Ярославль: не хотела расставаться с морем, с малой родиной. Так решилась судьба моряка - он надолго связал свою жизнь с Молотовском, с судостроительным заводом.
Свою работу на Севмашпредприятии начал в корпусном цехе, потом перешел в водно-транспортный цех рулевым на катера, был помощником капитана на паровых буксирах прибрежного плавания, принимал новейший буксир «Ломоносов», позже участвовал в переоборудовании «Лименды»... «Надо быть опытнейшим капитаном, - говорит о Корзине бывший начальник водно-транспортного цеха В.В. Тиммиев, - чтобы на маленьком утлом суденышке ходить по морю, особенно по Баренцеву. А Корзин ходил, сопровождая заказы».
В свой родной Ярославль Альберт Федорович вернулся лишь спустя многие годы, в конце 80-х, выйдя на заслуженный отдых. Но и там не сидел сложа руки - работал в спецшколе для несовершеннолетних, своим примером воспитывал молодежь.
...Каждый май встречаются выпускники Соловецкой школы юнг, вспоминают свое военное детство, боевые походы. К ним присоединяются ветераны Северных конвоев из других городов. К сожалению, год от года соловецких юнг становится все меньше. Альберта Федоровича Корзина нет с нами, но память о нем останется в сердцах родных и близких, друзей, сослуживцев, мальчишек военной поры.
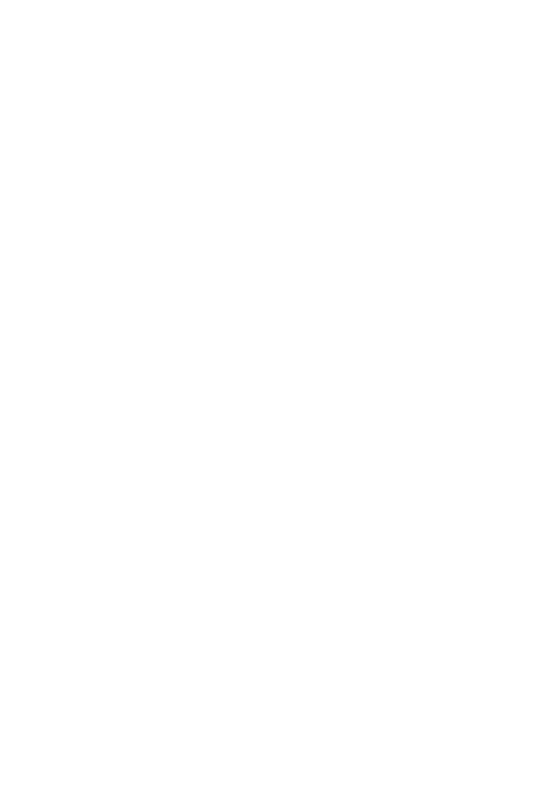
КОРЗИН АЛЬБЕРТ ФЕДОРОВИЧ
Рулевой катера воднотранспортного цеха, помощник капитана на паровых буксирах прибрежного плавания Севмаша
Награжден медалью «За боевые заслуги»
Рулевой катера воднотранспортного цеха, помощник капитана на паровых буксирах прибрежного плавания Севмаша
Награжден медалью «За боевые заслуги»

ОПЯКИН АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
Устроился учеником долбежника в главном механическом цехе, на станках отработал 26 лет
Награжден орденами и медалями
МОРЕ КИПЕЛО ПОД НАМИ
…Трагическое известие о том, что началась война, застало Анатолия Андреевича Опякина за сотню километров от родного села Большая горка на сплаве леса. Мужики побросали тогда багры и побежали домой. За оставление рабочего места в те годы могли и посадить, но в тот момент было не до дисциплины.
Двадцатилетнего юношу призвали на фронт и отправили на Соловки в учебный отряд Северного флота. В 1942-м после окончания учебы молодого матроса привезли в Молотовск и распределили на пароход ледокольного типа «MONTKALM» английской постройки. На этом пароходе матрос Анатолий Опякин прошел две войны – Отечественную и Японскую. Корабль сопровождал суда, груженные продуктами и боеприпасами, так необходимыми для жизни, для Победы. Молотовск, Архангельск, Мурманск, дальневосточные порты – все пункты назначения, где ждали ценный груз, перечислить невозможно. К счастью, корабль оказался неуязвим для вражеских орудий, не раз выдерживал шквальный огонь противника и штормы, избороздил Ледовитый и Тихий океаны и более десятка морей.
– Порой было очень страшно, – вспоминает Анатолий Андреевич. – Фашистские подводные лодки атаковали наши конвои, сверху «заваливали» снарядами самолеты, преследовали вражеские корабли. Небо разрывалось от залпов орудий, вода кипела под нами, а рядом гибли товарищи. Страшно было, когда жесточайший шторм заливал палубу и грозился перевернуть корабль. Но мы отбивали атаки врага и стихии любой ценой.
Анатолий Андреевич был первым наводчиком орудия. Он признался, что порой ему хотелось сражаться с фашистами на суше, чтобы лицом к лицу столкнуться в схватке с врагом. Он просился с корабля, но бойцы были нужны везде: и на суше, и на море. А именно здесь шла особая проверка характера, когда некуда было укрыться от огненного шквала снарядов, а если ранят в море, то шанс выжить вдали от берега был небольшой.
Анатолий Опякин победный май встретил на корабле у берегов Петропавловска-на-Камчатке.
Выпили сто граммов за Победу, за не доживших до радостного дня товарищей. Но моряку не суждено было сразу вернуться на родину. В августе 1945 года началась война с Японией, и он продолжил службу. Война для Анатолия Андреевича закончилась лишь в 1948-м. Участник конвоя вернулся в родное село. Его грудь украшали ордена и многочисленные медали. За плечами радость побед и горечь потерь. Впереди свободная жизнь, новая работа. Анатолий Опякин устроился на завод № 402 учеником долбежника в главном механическом цехе, где на станках отработал 26 лет.
…Трагическое известие о том, что началась война, застало Анатолия Андреевича Опякина за сотню километров от родного села Большая горка на сплаве леса. Мужики побросали тогда багры и побежали домой. За оставление рабочего места в те годы могли и посадить, но в тот момент было не до дисциплины.
Двадцатилетнего юношу призвали на фронт и отправили на Соловки в учебный отряд Северного флота. В 1942-м после окончания учебы молодого матроса привезли в Молотовск и распределили на пароход ледокольного типа «MONTKALM» английской постройки. На этом пароходе матрос Анатолий Опякин прошел две войны – Отечественную и Японскую. Корабль сопровождал суда, груженные продуктами и боеприпасами, так необходимыми для жизни, для Победы. Молотовск, Архангельск, Мурманск, дальневосточные порты – все пункты назначения, где ждали ценный груз, перечислить невозможно. К счастью, корабль оказался неуязвим для вражеских орудий, не раз выдерживал шквальный огонь противника и штормы, избороздил Ледовитый и Тихий океаны и более десятка морей.
– Порой было очень страшно, – вспоминает Анатолий Андреевич. – Фашистские подводные лодки атаковали наши конвои, сверху «заваливали» снарядами самолеты, преследовали вражеские корабли. Небо разрывалось от залпов орудий, вода кипела под нами, а рядом гибли товарищи. Страшно было, когда жесточайший шторм заливал палубу и грозился перевернуть корабль. Но мы отбивали атаки врага и стихии любой ценой.
Анатолий Андреевич был первым наводчиком орудия. Он признался, что порой ему хотелось сражаться с фашистами на суше, чтобы лицом к лицу столкнуться в схватке с врагом. Он просился с корабля, но бойцы были нужны везде: и на суше, и на море. А именно здесь шла особая проверка характера, когда некуда было укрыться от огненного шквала снарядов, а если ранят в море, то шанс выжить вдали от берега был небольшой.
Анатолий Опякин победный май встретил на корабле у берегов Петропавловска-на-Камчатке.
Выпили сто граммов за Победу, за не доживших до радостного дня товарищей. Но моряку не суждено было сразу вернуться на родину. В августе 1945 года началась война с Японией, и он продолжил службу. Война для Анатолия Андреевича закончилась лишь в 1948-м. Участник конвоя вернулся в родное село. Его грудь украшали ордена и многочисленные медали. За плечами радость побед и горечь потерь. Впереди свободная жизнь, новая работа. Анатолий Опякин устроился на завод № 402 учеником долбежника в главном механическом цехе, где на станках отработал 26 лет.
ДЛИННЫЕ МИЛИ ДОЛГОЙ ВОЙНЫ
Он стоял на палубе бронированного катера. Сильный ветер кидал корабль с борта на борт, он дрожал, но, рассекая шипящие пласты, летел вперед. К горлу подступил тягучий комок, в глазах побежали круги, палуба уходила из-под ног. Он вцепился в леерную стойку и подумал, что оторваться от нее уже не сумеет. И тут над блестящей водой пронесся голос вахтенного офицера: «Корабль к бою!» Загрохотали трапы и настилы: катер мгновенно ожил. «У меня пост в трюмной машине, – очнулся матрос Костюченко. – Это вниз. А я не могу оторваться от стойки…» Но Андрей пересилил свой страх, разжав кулаки. И тут его накрыла волна. «Все», – пронеслось в голове. Теряя сознание, он все-таки зацепился за стойку. Подтянулся, но хватка ослабла. И в тот момент, когда понял, что сил больше нет, чьи-то сильные руки подхватили его…
Первый бой на том и закончился. Война же для матроса Костюченко только расширяла свои черные горизонты. Еще не раз и не два Черное море станет ареной ожесточенных
схваток с вражескими кораблями. В одной из них Андрей получит ранение и почти на два месяца отправится в госпиталь.
Руки ветерана держат выписку, подтверждающую его лечение с 17 мая по 29 июня 1942 года, уже второго года войны. Воспоминания даются ему непросто. Каждый выхваченный «сюжет» из Великой Отечественной болью и страданиями отзывался в его сердце. Сколько было этих печальных и трагических событий, произошедших на его глазах, никто не подсчитывал.
После госпиталя Андрея Костюченко перевели на Северный флот, но Арктика будет держать его недолго. Какое-то время краснофлотец воевал в составе 80-й морской стрелковой бригады Карельского фронта. Затем последует переформирование в Мурманске, и местом базирования подразделения Костюченко станут Соловецкие острова.
Заметный поворот в судьбе двадцатидвухлетнего моряка наступил, когда его перевели в 7-й дивизион тральщиков в Архангельске. «Из Двины я уже никуда не уходил до самого окончания службы, – рассказывает ветеран. – Я ведь повестки на войну не получал. А как был призван в тридцать восьмом году на действительную военную службу, так и оставался одетым в морскую тельняшку, аж до сорок девятого года. Воевать приходилось и рядом с Архангельском. Только не с гитлеровцами, а с боезапасом, сброшенным ими в русло Двины. Это они, донные электромагнитные мины, надолго задержали меня на той самой войне. Работу нашему тральщику порой находили сами горожане. Вон там-то и там-то, указывали они, фашистские стервятники выбросили опасный груз. Ну а к месту его траления моя машина прибывала мгновенно».
Даже самая долгая война не может продолжаться бесконечно. Пробил час мобилизации и для старшины 1-й статьи Андрея Костюченко. И вскоре механика катера-тральщика принимает на работу автотранспортный цех Севмаша. Затем бывалый моряк устраивается слесарем по ремонту газовой аппаратуры. В двенадцатом цехе и прошла основная трудовая жизнь. Отсюда кавалер ордена Отечественной войны вышел на пенсию и теперь состоит на учете в цеховой ветеранской организации.
На северодвинской земле украинец Костюченко не затерялся. Уроженец Сумской области обзавелся в городе корабелов семьей, друзьями, среди которых есть и земляки. С Елизаветой Николаевной, ставшей спутницей и работавшей заведующей детским садом № 29, они уже давно идут вместе по жизни. Правда, теперь дальше однокомнатной квартиры по состоянию здоровья не бывают. За пожилыми родителями присматривают сын Александр и внук Андрей. Время от времени приезжает из Воронежа дочь Валентина. Бывают в квартире и правнуки ветеранов.
Не оставляют без внимания пожилую семейную пару Костюченко и коллеги из двенадцатого цеха. В памяти многих остался, например, первооктябрьский день, когда главе большой семьи исполнилось девяносто лет. Ветерана войны и труда приветствовали тогда, можно сказать, со всех фронтов. Прежде всего с личного и производственного. В разноголосии детей и взрослых нельзя было не услышать и голос начальника цеха Александра Менухова. Впрочем, не затерялись и сдержанные по эмоциональной окраске слова юбиляра.
За майской Великой Победой приходит другая дата, у нее иное настроение, иная интонация. Тяжелый и скорбный день 22 июня никогда не уйдет из наших сердец. А неостывающая память вновь позовет нас к Вечному огню. Все меньше и меньше приходит к нему ветеранов. Идут вдовы и дети, внуки и правнуки. Идут в скорби, когда гордость перемежается со слезами. Идут, передавая священную скорбь как эстафету неоплатного долга.
Он стоял на палубе бронированного катера. Сильный ветер кидал корабль с борта на борт, он дрожал, но, рассекая шипящие пласты, летел вперед. К горлу подступил тягучий комок, в глазах побежали круги, палуба уходила из-под ног. Он вцепился в леерную стойку и подумал, что оторваться от нее уже не сумеет. И тут над блестящей водой пронесся голос вахтенного офицера: «Корабль к бою!» Загрохотали трапы и настилы: катер мгновенно ожил. «У меня пост в трюмной машине, – очнулся матрос Костюченко. – Это вниз. А я не могу оторваться от стойки…» Но Андрей пересилил свой страх, разжав кулаки. И тут его накрыла волна. «Все», – пронеслось в голове. Теряя сознание, он все-таки зацепился за стойку. Подтянулся, но хватка ослабла. И в тот момент, когда понял, что сил больше нет, чьи-то сильные руки подхватили его…
Первый бой на том и закончился. Война же для матроса Костюченко только расширяла свои черные горизонты. Еще не раз и не два Черное море станет ареной ожесточенных
схваток с вражескими кораблями. В одной из них Андрей получит ранение и почти на два месяца отправится в госпиталь.
Руки ветерана держат выписку, подтверждающую его лечение с 17 мая по 29 июня 1942 года, уже второго года войны. Воспоминания даются ему непросто. Каждый выхваченный «сюжет» из Великой Отечественной болью и страданиями отзывался в его сердце. Сколько было этих печальных и трагических событий, произошедших на его глазах, никто не подсчитывал.
После госпиталя Андрея Костюченко перевели на Северный флот, но Арктика будет держать его недолго. Какое-то время краснофлотец воевал в составе 80-й морской стрелковой бригады Карельского фронта. Затем последует переформирование в Мурманске, и местом базирования подразделения Костюченко станут Соловецкие острова.
Заметный поворот в судьбе двадцатидвухлетнего моряка наступил, когда его перевели в 7-й дивизион тральщиков в Архангельске. «Из Двины я уже никуда не уходил до самого окончания службы, – рассказывает ветеран. – Я ведь повестки на войну не получал. А как был призван в тридцать восьмом году на действительную военную службу, так и оставался одетым в морскую тельняшку, аж до сорок девятого года. Воевать приходилось и рядом с Архангельском. Только не с гитлеровцами, а с боезапасом, сброшенным ими в русло Двины. Это они, донные электромагнитные мины, надолго задержали меня на той самой войне. Работу нашему тральщику порой находили сами горожане. Вон там-то и там-то, указывали они, фашистские стервятники выбросили опасный груз. Ну а к месту его траления моя машина прибывала мгновенно».
Даже самая долгая война не может продолжаться бесконечно. Пробил час мобилизации и для старшины 1-й статьи Андрея Костюченко. И вскоре механика катера-тральщика принимает на работу автотранспортный цех Севмаша. Затем бывалый моряк устраивается слесарем по ремонту газовой аппаратуры. В двенадцатом цехе и прошла основная трудовая жизнь. Отсюда кавалер ордена Отечественной войны вышел на пенсию и теперь состоит на учете в цеховой ветеранской организации.
На северодвинской земле украинец Костюченко не затерялся. Уроженец Сумской области обзавелся в городе корабелов семьей, друзьями, среди которых есть и земляки. С Елизаветой Николаевной, ставшей спутницей и работавшей заведующей детским садом № 29, они уже давно идут вместе по жизни. Правда, теперь дальше однокомнатной квартиры по состоянию здоровья не бывают. За пожилыми родителями присматривают сын Александр и внук Андрей. Время от времени приезжает из Воронежа дочь Валентина. Бывают в квартире и правнуки ветеранов.
Не оставляют без внимания пожилую семейную пару Костюченко и коллеги из двенадцатого цеха. В памяти многих остался, например, первооктябрьский день, когда главе большой семьи исполнилось девяносто лет. Ветерана войны и труда приветствовали тогда, можно сказать, со всех фронтов. Прежде всего с личного и производственного. В разноголосии детей и взрослых нельзя было не услышать и голос начальника цеха Александра Менухова. Впрочем, не затерялись и сдержанные по эмоциональной окраске слова юбиляра.
За майской Великой Победой приходит другая дата, у нее иное настроение, иная интонация. Тяжелый и скорбный день 22 июня никогда не уйдет из наших сердец. А неостывающая память вновь позовет нас к Вечному огню. Все меньше и меньше приходит к нему ветеранов. Идут вдовы и дети, внуки и правнуки. Идут в скорби, когда гордость перемежается со слезами. Идут, передавая священную скорбь как эстафету неоплатного долга.
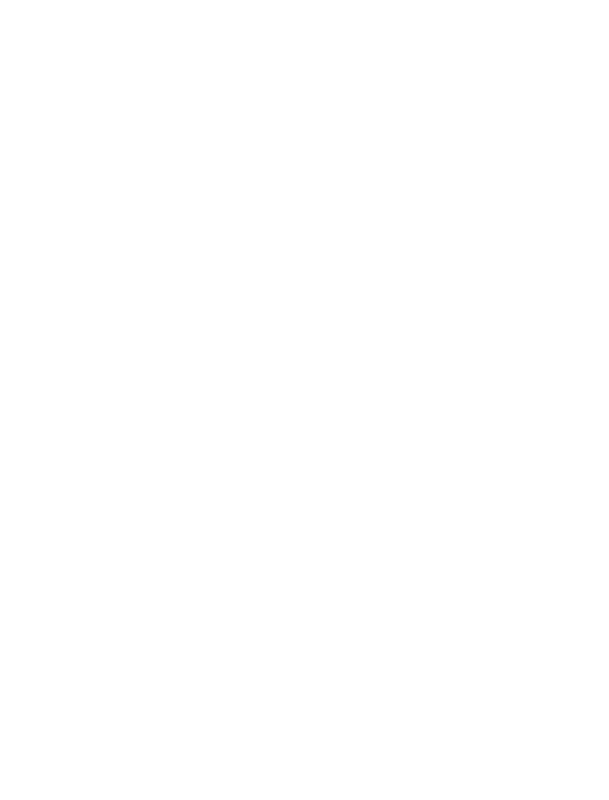
КОСТЮЧЕНКО АНДРЕЙ
Слесарь по ремонту газовой аппаратуры цеха №12 Севмаша
Слесарь по ремонту газовой аппаратуры цеха №12 Севмаша
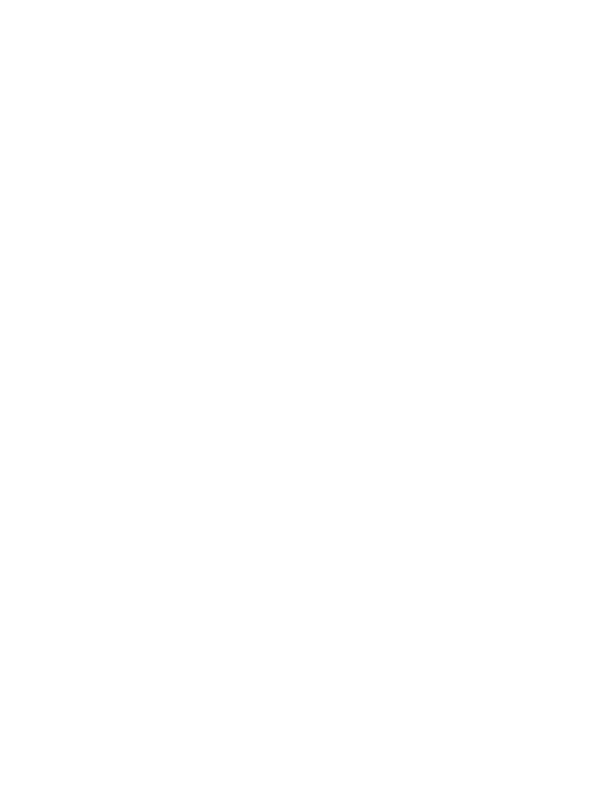
ВЕЖЛИВЦЕВА АННА ФЕДОРОВНА
Кладовщица главного механического цеха Севмаша
ПО ЖИЗНИ ПРОШЛА ВОЙНА
Женщина – символ самой жизни. Пока есть женщина, всегда будем мы. А женщина на войне – явление сколь обычное, столь и немыслимое. Это в принципе противоречит человеческой природе. Может, поэтому и нет в русском языке пары слову «солдат». А есть сестричка, родненькая... Сколько было на фронтах таких милых, курносых, молодых, и не очень. Маленьких, хрупких, но таких сильных...
Анна Федоровна Вежливцева охотно говорит о том времени. Нет в ее словах жалоб и слез. Хотя вспоминать тяжело. Но молодость – пора прекрасная, даже если идет война. Шутили, пели и влюблялись всем смертям назло.
Родилась Аня в Воронежской области. Детство было трудным, жили впроголодь, учиться некогда, да и в школу не в чем ходить. Отец, боясь ареста, уехал в Архангельск. Вслед за ним через два года перебралась и вся семья. 15-летней девчонкой пришла Аня на завод, рассыльной в отдел подготовки кадров. Поступила в вечернюю школу, мечтала работать бухгалтером. Но помешала война.
В августе 41-го заводских ребят отправили на укрепработы, практически к линии фронта. На передовой солдат с винтовкой, а рядом девчонки с лопатами и ломами.
Страшно! Немцы бомбят, сбрасывают десанты. Тяжело! Рыли окопы, землянки, пилили и таскали лес на переправы. Голодно! 400 граммов хлеба. Половину вечером, другую утром. А днем так хочется есть! Пристрастились курить сухой лист. А махорку, что выдавали, приберегали для солдатиков, еще и умудрялись их подкармливать. Наверное, это у женщины в крови – спасать и оберегать.
Вернувшись домой, Анна Федоровна перешла работать в цех учеником токаря. Мужчин забрали на фронт, работать некому. Делали снаряды, 2000 штук в сутки. Когда нет своей работы, бегали от станка к станку, складывали снаряды в ящики. Схватит штук шесть-семь, и бегом. А они по 6 кг каждый. И так четыре с половиной года.
В несколько строк уместилась военная биография участницы войны Анны Федоровны Вежливцевой. А за ними вся жизнь. Слезы и горечь, несбывшиеся мечты и погибшие друзья...
Женщина – символ самой жизни. Пока есть женщина, всегда будем мы. А женщина на войне – явление сколь обычное, столь и немыслимое. Это в принципе противоречит человеческой природе. Может, поэтому и нет в русском языке пары слову «солдат». А есть сестричка, родненькая... Сколько было на фронтах таких милых, курносых, молодых, и не очень. Маленьких, хрупких, но таких сильных...
Анна Федоровна Вежливцева охотно говорит о том времени. Нет в ее словах жалоб и слез. Хотя вспоминать тяжело. Но молодость – пора прекрасная, даже если идет война. Шутили, пели и влюблялись всем смертям назло.
Родилась Аня в Воронежской области. Детство было трудным, жили впроголодь, учиться некогда, да и в школу не в чем ходить. Отец, боясь ареста, уехал в Архангельск. Вслед за ним через два года перебралась и вся семья. 15-летней девчонкой пришла Аня на завод, рассыльной в отдел подготовки кадров. Поступила в вечернюю школу, мечтала работать бухгалтером. Но помешала война.
В августе 41-го заводских ребят отправили на укрепработы, практически к линии фронта. На передовой солдат с винтовкой, а рядом девчонки с лопатами и ломами.
Страшно! Немцы бомбят, сбрасывают десанты. Тяжело! Рыли окопы, землянки, пилили и таскали лес на переправы. Голодно! 400 граммов хлеба. Половину вечером, другую утром. А днем так хочется есть! Пристрастились курить сухой лист. А махорку, что выдавали, приберегали для солдатиков, еще и умудрялись их подкармливать. Наверное, это у женщины в крови – спасать и оберегать.
Вернувшись домой, Анна Федоровна перешла работать в цех учеником токаря. Мужчин забрали на фронт, работать некому. Делали снаряды, 2000 штук в сутки. Когда нет своей работы, бегали от станка к станку, складывали снаряды в ящики. Схватит штук шесть-семь, и бегом. А они по 6 кг каждый. И так четыре с половиной года.
В несколько строк уместилась военная биография участницы войны Анны Федоровны Вежливцевой. А за ними вся жизнь. Слезы и горечь, несбывшиеся мечты и погибшие друзья...
БЫЛИ МИННЫЕ ПОЛЯ, СТАЛА МИРНАЯ ЗЕМЛЯ
Линия фронта этого солдата пролегла через Карельский перешеек, земли которого он освобождал от вражеских снарядов и мин. Только через пять лет службы, а точнее сказать – смертельной работы сапера, минное поле бывшего Карельского фронта стало свободным.
На войну новобранец Котельников уходил… в сорок пятом. Когда уже отгремели последние выстрелы и победные салюты. Повестка из военкомата на имя девятнадцатилетнего парня из приморской деревни пришла в декабре. Это был второй призыв Аркадия Котельникова. Ранее, в сорок третьем, он не прошел комиссию… по росту.
А теперь, в начале сорок шестого, Приморский район Архангельска недосчитался сразу трехсот молодых ребят, востребованных армией. Эшелон отправил их в направлении Петрозаводска, в расположение отдельного моторизованного батальона. Здесь и сформировалась рота саперов, в составе которой рядовому Аркадию Котельникову и суждено было пройти дорогами войны.
Минные поля начинались в непосредственной близости от карельской столицы. Туда саперов отвозила сначала «полуторка», а дальше – железнодорожный вагон. Продолжительность «работы» определял световой день. В течение его и проходили бойцы обозначенные на карте опасные «квадраты». Нащупал «железку» – ставишь красный флажок, очистил несколько метров – определяешь их границу белым флажком.
За день таких находок набиралось до пятнадцати. В сумерках, когда поиск был уже невозможен, вырывали траншею и взрывали гитлеровский боезапас. Выпадали, конечно, дни и без «фейерверков», когда отметки на карте не совпадали с реалиями. Но об этом саперы не сожалели.
Пять лет, вплоть до 1951 года, Аркадий Котельников и его сослуживцы очищали от мин Карельскую землю, исходив ее вдоль и поперек. «Пять лет» надо понимать в буквальном смысле: снежной зимой поиск мин исключался. Всякий раз, отправляя солдат на задание, ротный командир напутствовал их: «Помните – сапер ошибается один раз». Один раз солдатский сапог нечаянно коснулся упрятанного снаряда, и боец остался без пальцев на ноге. Это был друг и земляк Ион Данилов.
Судьба и удача сберегли Аркадия Котельникова здоровым и невредимым. И жизнь пошла своим чередом. Она подарила ему встречу с бойкой и славной девушкой, работницей объединения «Продтовары». А на нашем заводе Аркадий приобрел специальность такелажника и 30 лет трудился в водно-транспортном цехе. В семье отважного сапера Аркадия Александровича и Капитолины Федоровны выросли два сына и дочь. Все они: Николай и Евгений, бывшие моряки Северного флота, а также Надежда – пополнили семью корабелов Севмаша и «Звездочки». Фамилию Котельниковых продолжают сегодня два внука, внучка и правнук. Глядя на военные награды своего деда и прадеда, среди которых выделяется орден Красной Звезды, они любят расспрашивать его о войне.
Но как рассказать малышам, что у него было совсем иное поле боя, полное опасности и риска.
Еще от выстрелов немые
Не расцветали тополя,
А вслед ложились яровые
На эти минные поля.
Он отводил беду далеко,
Туда, за тридевять дорог,
Где не ласкает солнце окон,
А вот себя не уберег.
Саперу Аркадию Котельникову удалось уберечься от разрыва мины, сохранив для жизни мирное поле и себя.
Линия фронта этого солдата пролегла через Карельский перешеек, земли которого он освобождал от вражеских снарядов и мин. Только через пять лет службы, а точнее сказать – смертельной работы сапера, минное поле бывшего Карельского фронта стало свободным.
На войну новобранец Котельников уходил… в сорок пятом. Когда уже отгремели последние выстрелы и победные салюты. Повестка из военкомата на имя девятнадцатилетнего парня из приморской деревни пришла в декабре. Это был второй призыв Аркадия Котельникова. Ранее, в сорок третьем, он не прошел комиссию… по росту.
А теперь, в начале сорок шестого, Приморский район Архангельска недосчитался сразу трехсот молодых ребят, востребованных армией. Эшелон отправил их в направлении Петрозаводска, в расположение отдельного моторизованного батальона. Здесь и сформировалась рота саперов, в составе которой рядовому Аркадию Котельникову и суждено было пройти дорогами войны.
Минные поля начинались в непосредственной близости от карельской столицы. Туда саперов отвозила сначала «полуторка», а дальше – железнодорожный вагон. Продолжительность «работы» определял световой день. В течение его и проходили бойцы обозначенные на карте опасные «квадраты». Нащупал «железку» – ставишь красный флажок, очистил несколько метров – определяешь их границу белым флажком.
За день таких находок набиралось до пятнадцати. В сумерках, когда поиск был уже невозможен, вырывали траншею и взрывали гитлеровский боезапас. Выпадали, конечно, дни и без «фейерверков», когда отметки на карте не совпадали с реалиями. Но об этом саперы не сожалели.
Пять лет, вплоть до 1951 года, Аркадий Котельников и его сослуживцы очищали от мин Карельскую землю, исходив ее вдоль и поперек. «Пять лет» надо понимать в буквальном смысле: снежной зимой поиск мин исключался. Всякий раз, отправляя солдат на задание, ротный командир напутствовал их: «Помните – сапер ошибается один раз». Один раз солдатский сапог нечаянно коснулся упрятанного снаряда, и боец остался без пальцев на ноге. Это был друг и земляк Ион Данилов.
Судьба и удача сберегли Аркадия Котельникова здоровым и невредимым. И жизнь пошла своим чередом. Она подарила ему встречу с бойкой и славной девушкой, работницей объединения «Продтовары». А на нашем заводе Аркадий приобрел специальность такелажника и 30 лет трудился в водно-транспортном цехе. В семье отважного сапера Аркадия Александровича и Капитолины Федоровны выросли два сына и дочь. Все они: Николай и Евгений, бывшие моряки Северного флота, а также Надежда – пополнили семью корабелов Севмаша и «Звездочки». Фамилию Котельниковых продолжают сегодня два внука, внучка и правнук. Глядя на военные награды своего деда и прадеда, среди которых выделяется орден Красной Звезды, они любят расспрашивать его о войне.
Но как рассказать малышам, что у него было совсем иное поле боя, полное опасности и риска.
Еще от выстрелов немые
Не расцветали тополя,
А вслед ложились яровые
На эти минные поля.
Он отводил беду далеко,
Туда, за тридевять дорог,
Где не ласкает солнце окон,
А вот себя не уберег.
Саперу Аркадию Котельникову удалось уберечься от разрыва мины, сохранив для жизни мирное поле и себя.
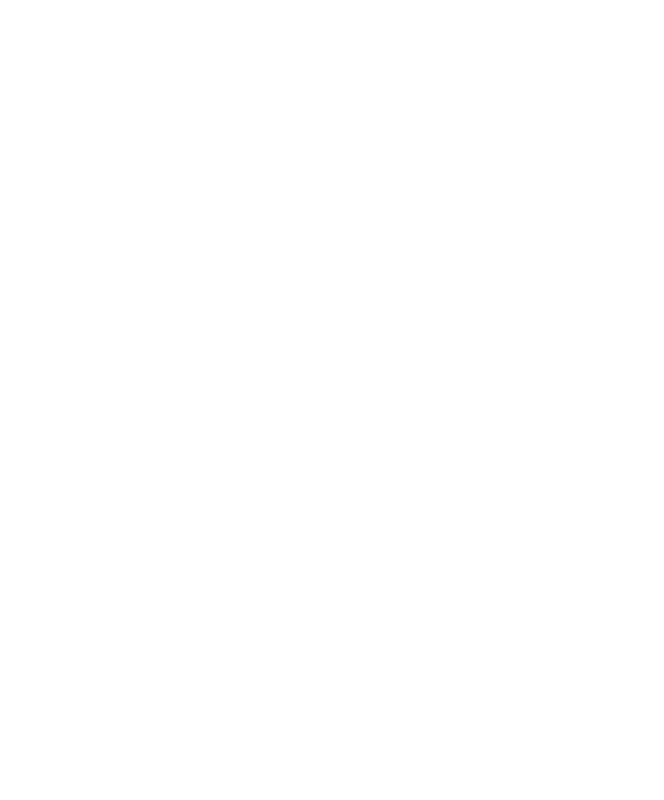
КОТЕЛЬНИКОВ АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Такелажник воднотранспортного цеха
Награжден орденом Красной Звезды
Такелажник воднотранспортного цеха
Награжден орденом Красной Звезды
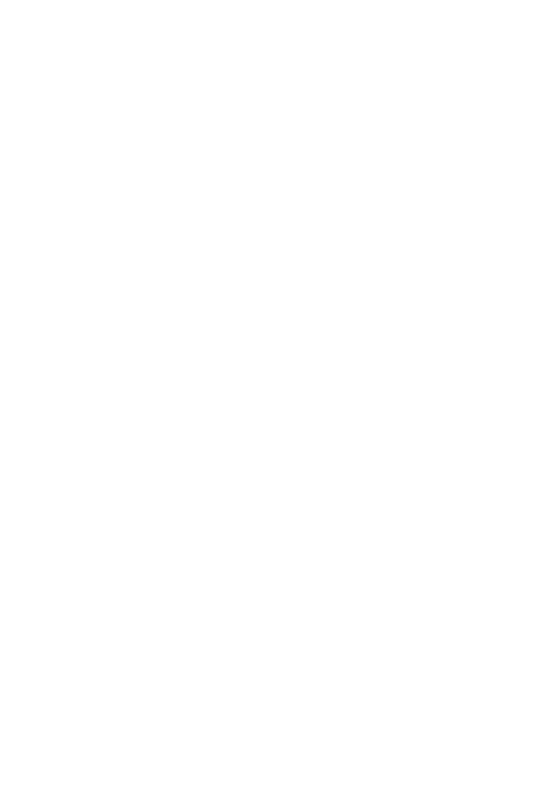
МАНАКОВ АРКАДИЙ СТЕПАНОВИЧ
Старший контрольный мастер управления качества продукции Севмаша
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, орденами Славы 2-й и 3-й степеней, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией»
ОРУДИЙНЫЙ РАСЧЕТ БЬЕТ В ЦЕЛЬ
Для старшего сержанта артиллериста Аркадия Степановича Манакова война началась"22 июня 1941 года у маленького литовского городка Мариамполя. С тяжелыми боями, теряя товарищей и друзей, несколько раз сменив разбитое в боях орудие, прошел он путь от западных границ до истоков Волги и обратно до берегов Балтийского моря.
Как писала фронтовая газета «Суворовец»: «... Орудийный расчет старшины Аркадия Манакова прославил себя замечательными подвигами в Великой Отечественной войне. Первый выстрел орудие дало спустя два часа после вероломного нападения врага на нашу Родину. Последний выстрел был сделан за час до капитуляции немцев. За годы войны орудие Манакова подбило два немецких танка, уничтожило шестнадцать дзотов, пятнадцать пулеметных точек, сотни фашистов. За свои славные дела командир орудия награжден орденами Славы 2-й и 3-й степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией».
Кстати, орденом Славы 2-й степени командир артиллерийского расчета А.С. Манаков был награжден за успешно проведенную операцию по освобождению города Шауляй и выход к Балтийскому морю. И вручали ему награду на слете сержантов.
- Это был первый случай за всю войну, - рассказывал Аркадий Степанович, - когда я уехал от передовой на сорок километров в тыл. Это был и первый случай, когда три ночи из всей войны я спал на кровати, на чистых простынях, без сапог.
Аркадий Манаков пользовался большим авторитетом у товарищей по оружию не только за смелость и отвагу, но и за умение поднять настроение бойцам, поговорить по душам. Во фронтовой дивизионной газете часто печатались его заметки, стихи. Солдаты веселели и забывали усталость от его карикатур в боевых стенновках, которые появлялись, как правило, сразу же после тяжелого сражения или длительного перехода.
Через всю войну Аркадий Манаков пронес с собой карту боевого пути. Сделана она на оборотной стороне немецкой географической карты. Путь временного отступления он отмечал синим карандашом. Начало его в том самом литовском городе Мариамполе, что находится недалеко от границы с Восточной Пруссией. Здесь Аркадий Манаков в 1941 году заканчивал службу в рядах Советской Армии, которую самовольно и безжалостно продлила война. И если линия отступления на фронтовой карте не слишком бросается в глаза, то победоносное шествие четко выведено красным цветом, пестрит флажками, означающими бои, а на некоторых важных точках нарисованы маленькие желтые кружочки - это награды, которые сопутствовали героическому успеху. Эту карту Аркадий Степанович часто показывал школьникам, рассказывая о войне.
Для старшего сержанта артиллериста Аркадия Степановича Манакова война началась"22 июня 1941 года у маленького литовского городка Мариамполя. С тяжелыми боями, теряя товарищей и друзей, несколько раз сменив разбитое в боях орудие, прошел он путь от западных границ до истоков Волги и обратно до берегов Балтийского моря.
Как писала фронтовая газета «Суворовец»: «... Орудийный расчет старшины Аркадия Манакова прославил себя замечательными подвигами в Великой Отечественной войне. Первый выстрел орудие дало спустя два часа после вероломного нападения врага на нашу Родину. Последний выстрел был сделан за час до капитуляции немцев. За годы войны орудие Манакова подбило два немецких танка, уничтожило шестнадцать дзотов, пятнадцать пулеметных точек, сотни фашистов. За свои славные дела командир орудия награжден орденами Славы 2-й и 3-й степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией».
Кстати, орденом Славы 2-й степени командир артиллерийского расчета А.С. Манаков был награжден за успешно проведенную операцию по освобождению города Шауляй и выход к Балтийскому морю. И вручали ему награду на слете сержантов.
- Это был первый случай за всю войну, - рассказывал Аркадий Степанович, - когда я уехал от передовой на сорок километров в тыл. Это был и первый случай, когда три ночи из всей войны я спал на кровати, на чистых простынях, без сапог.
Аркадий Манаков пользовался большим авторитетом у товарищей по оружию не только за смелость и отвагу, но и за умение поднять настроение бойцам, поговорить по душам. Во фронтовой дивизионной газете часто печатались его заметки, стихи. Солдаты веселели и забывали усталость от его карикатур в боевых стенновках, которые появлялись, как правило, сразу же после тяжелого сражения или длительного перехода.
Через всю войну Аркадий Манаков пронес с собой карту боевого пути. Сделана она на оборотной стороне немецкой географической карты. Путь временного отступления он отмечал синим карандашом. Начало его в том самом литовском городе Мариамполе, что находится недалеко от границы с Восточной Пруссией. Здесь Аркадий Манаков в 1941 году заканчивал службу в рядах Советской Армии, которую самовольно и безжалостно продлила война. И если линия отступления на фронтовой карте не слишком бросается в глаза, то победоносное шествие четко выведено красным цветом, пестрит флажками, означающими бои, а на некоторых важных точках нарисованы маленькие желтые кружочки - это награды, которые сопутствовали героическому успеху. Эту карту Аркадий Степанович часто показывал школьникам, рассказывая о войне.
«КРАСНЫЙ КРЫМ» ОБОРОНЯЕТ ГОРОДА
Борис Иванович Холодов воевал на гвардейском крейсере «Красный Крым».
– 22 июня у курсантов Махачкалинской морской пограншколы НКВД проходил выпускной бал. Удачно сдав экзамены, мы, одетые «по форме раз», то есть во все белое, начиная с бескозырки, с радостью вступали в новый, совсем взрослый период жизни. Но в один миг все в наших планах изменилось.
Помню, появляется «морской волк» по фамилии Коржавин, кстати, архангелогородец, и отбирает четырех, в том числе и меня, в роту рулевых-сигнальщиков на черноморский крейсер «Красный Крым». Этот корабль более четырех десятилетий верой и правдой служил русскому флоту.
Под покровом ночи
…Начались походы в осажденную Одессу. Возили подкрепление, боеприпасы, вывозили раненых. Отправлялись ночью, чтобы не подставляться под удары вражеской авиации и торпедоносцев. Флот у нас был сильный: несколько линкоров, 15 эскадренных миноносцев, подлодки. Помогала и своя авиация, но ее аэродромы были далеко, и горючего на долгий бой не хватало.
Когда Одессе совсем тяжело стало, командование решило высадить десант в тыл немецких батарей, ведущих обстрел города. В Казачьей бухте приняли третий морской полк. Под покровом ночи подошли, открыли ураганный огонь, а в это время с передней баржи высаживались десантники. Все они совершили тогда подвиг, многие из боя не вернулись. Девять месяцев держала Одесса оборону, затем наступила оккупация.
Севастопольские операции
Участвовал «Красный Крым» в обороне Севастополя, совершал аналогичные походы.
– На Черном море роль многих кораблей сводилась к обороне. Нерадостное время, но без обороны не было бы и наступления. Каждый поход в Севастополь превращался в особую операцию, менялся курс с учетом сложности обстановки и наличия минных полей.
В Севастополе давался час, чтобы загрузиться, взять раненных, эвакуировать жителей города. И вот уже наступает время выхода, а гражданское население все идет. Приходилось брать сходни и тащить их вместе с людьми, обстановка заставляла. Особенно тяжелым выдался декабрь 41-го. В районе Феодосии и Керчи проводилась грандиозная десантная операция. Участвовали крейсеры «Красный Крым» и «Красный Кавказ», несколько эсминцев. Под непрерывным артиллерийским и минометным огнем «Красный Крым» ворвался в занятый гитлеровцами порт и высадил около пяти тысяч бойцов, выгрузил танки, орудия, боеприпасы и продовольствие. Операция прошла успешно, хотя, конечно, были потери.
Погиб командир отделения Михаил Григорьев, находившийся на ходовом мостике. В военно-морском музее Ленинграда, откуда он родом, среди экспонатов есть его бескозырка. В наш крейсер за всю войну не попала ни одна бомба. Даже когда шла семичасовая бомбардировка, крейсер выстоял, просто чудо. Хотя весь дрожал, и долго мы его потом отмывали от ила… Высаживали десанты и под Новороссийском, где моряки держали оборону вплоть до освобождения, в Судаке.
Потери
Много погибло сигнальщиков.
Задача у сигнальщика такая – за всем наблюдать, все видеть, обо всем сообщать, держать связь. Одним словом, они – глаза и уши
корабля. Ведь тогда не было локации, маяков, радиосвязи, а попробуй-ка пропусти сигнал...
Борис Холодов не пропустил. У него много орденов и медалей, среди которых два ордена Красной Звезды, медали за оборону городов-героев Одессы и Севастополя. Войну Холодов закончил на Камчатке. Службу закончил в звании капитана второго ранга. Потом работал на Севмаше старшим инженером по труду в водно-транспортном цехе.
Борис Холодов, сигнальщик с крейсера «Красный Крым», и в мирное время был связан с морем и флотом. Его отличали ответственность и надежность, преданность своему делу. Труд инженера-корабела отмечен наградами и поощрениями.
Борис Иванович Холодов воевал на гвардейском крейсере «Красный Крым».
– 22 июня у курсантов Махачкалинской морской пограншколы НКВД проходил выпускной бал. Удачно сдав экзамены, мы, одетые «по форме раз», то есть во все белое, начиная с бескозырки, с радостью вступали в новый, совсем взрослый период жизни. Но в один миг все в наших планах изменилось.
Помню, появляется «морской волк» по фамилии Коржавин, кстати, архангелогородец, и отбирает четырех, в том числе и меня, в роту рулевых-сигнальщиков на черноморский крейсер «Красный Крым». Этот корабль более четырех десятилетий верой и правдой служил русскому флоту.
Под покровом ночи
…Начались походы в осажденную Одессу. Возили подкрепление, боеприпасы, вывозили раненых. Отправлялись ночью, чтобы не подставляться под удары вражеской авиации и торпедоносцев. Флот у нас был сильный: несколько линкоров, 15 эскадренных миноносцев, подлодки. Помогала и своя авиация, но ее аэродромы были далеко, и горючего на долгий бой не хватало.
Когда Одессе совсем тяжело стало, командование решило высадить десант в тыл немецких батарей, ведущих обстрел города. В Казачьей бухте приняли третий морской полк. Под покровом ночи подошли, открыли ураганный огонь, а в это время с передней баржи высаживались десантники. Все они совершили тогда подвиг, многие из боя не вернулись. Девять месяцев держала Одесса оборону, затем наступила оккупация.
Севастопольские операции
Участвовал «Красный Крым» в обороне Севастополя, совершал аналогичные походы.
– На Черном море роль многих кораблей сводилась к обороне. Нерадостное время, но без обороны не было бы и наступления. Каждый поход в Севастополь превращался в особую операцию, менялся курс с учетом сложности обстановки и наличия минных полей.
В Севастополе давался час, чтобы загрузиться, взять раненных, эвакуировать жителей города. И вот уже наступает время выхода, а гражданское население все идет. Приходилось брать сходни и тащить их вместе с людьми, обстановка заставляла. Особенно тяжелым выдался декабрь 41-го. В районе Феодосии и Керчи проводилась грандиозная десантная операция. Участвовали крейсеры «Красный Крым» и «Красный Кавказ», несколько эсминцев. Под непрерывным артиллерийским и минометным огнем «Красный Крым» ворвался в занятый гитлеровцами порт и высадил около пяти тысяч бойцов, выгрузил танки, орудия, боеприпасы и продовольствие. Операция прошла успешно, хотя, конечно, были потери.
Погиб командир отделения Михаил Григорьев, находившийся на ходовом мостике. В военно-морском музее Ленинграда, откуда он родом, среди экспонатов есть его бескозырка. В наш крейсер за всю войну не попала ни одна бомба. Даже когда шла семичасовая бомбардировка, крейсер выстоял, просто чудо. Хотя весь дрожал, и долго мы его потом отмывали от ила… Высаживали десанты и под Новороссийском, где моряки держали оборону вплоть до освобождения, в Судаке.
Потери
Много погибло сигнальщиков.
Задача у сигнальщика такая – за всем наблюдать, все видеть, обо всем сообщать, держать связь. Одним словом, они – глаза и уши
корабля. Ведь тогда не было локации, маяков, радиосвязи, а попробуй-ка пропусти сигнал...
Борис Холодов не пропустил. У него много орденов и медалей, среди которых два ордена Красной Звезды, медали за оборону городов-героев Одессы и Севастополя. Войну Холодов закончил на Камчатке. Службу закончил в звании капитана второго ранга. Потом работал на Севмаше старшим инженером по труду в водно-транспортном цехе.
Борис Холодов, сигнальщик с крейсера «Красный Крым», и в мирное время был связан с морем и флотом. Его отличали ответственность и надежность, преданность своему делу. Труд инженера-корабела отмечен наградами и поощрениями.

ХОЛОДОВ БОРИС ИВАНОВИЧ
Старший инженер по труду воднотранспортного цеха Севмаша
Награжден орденами и медалями, среди которых два ордена Красной Звезды, медали за оборону городов-героев Одессы и Севастополя.
Старший инженер по труду воднотранспортного цеха Севмаша
Награжден орденами и медалями, среди которых два ордена Красной Звезды, медали за оборону городов-героев Одессы и Севастополя.
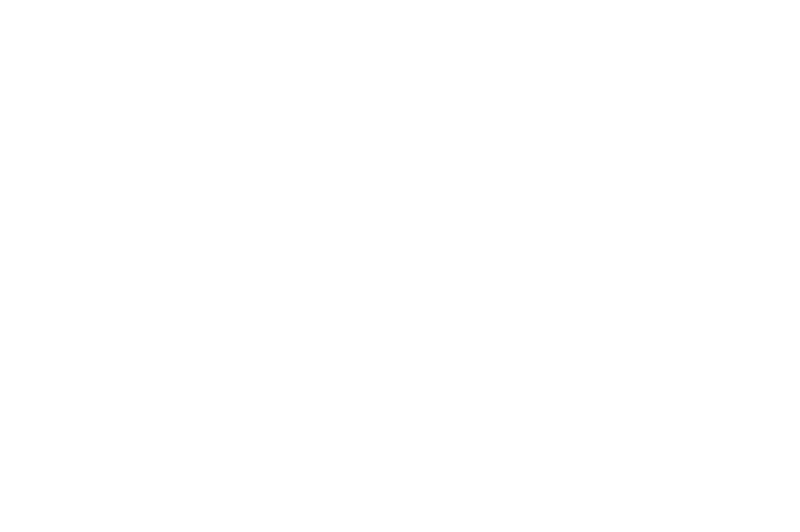
НИКОНОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
Председатель профсоюза Совета ветеранов Севмаша (по н.в)
ПОЧЕРК СВЯЗИСТКИ НИКОНОВОЙ
Известная наша фронтовичка Валентина Андреевна Никонова родом с Украины. Ей исполнилось 19 лет, когда началась война.
Оборонный завод, на котором она работала, эвакуировался в Кемерово. Что это был за путь – об этом, по словам Никоновой, надо писать отдельную книгу, столько было горя, бомбежек, смертей. «Оставаться в Кемерово все время? Нет, только на фронт» – эта мысль не давала покоя ни Валентине, ни ее подругам. Осаждали военкомат, но девушек никуда не брали, поскольку у них не было нужных специальностей. Тогда она закончила курсы медсестер, но ее направляли секретарем комсомольской организации на механический завод.
Однако упорства Валентине было не занимать, и она своего добилась. Объявив маме, всем знакомым, что ее призвали в армию, Валя присоединяется к группе, направленной на обучение в школу младших авиаспециалистов – ШМАС. Там готовили укладчиков парашютов и авиамехаников. 50 отличников из ШМАС затем направляют в Москву, в школу связи. Здесь формируется отдельный полк связи для фронта. Валентина попала в него, несмотря на все трудности, освоила несколько специальностей по связи – работу на трех аппаратах: СТ-35, Морзе, БОДО, была одновременно механиком и техником. Связисты обслуживали воздушные армии всех Украинских фронтов. Киев, Львов, Краков, бои за Берлин… Валентина Никонова была среди тех десяти специалистов по связи, которых вызывали в Москву для обслуживания первого воздушного парада.
1945 год, демобилизация, Украина. Через два года она приезжает вместе с мужем Василием Матвеевичем в Молотовск. Они познакомились на фронте, дождавшись Победы, поженились, но об этом тоже можно писать отдельную книгу.
27 лет Валентина Андреевна возглавляла группу оформления документов отдела кадров предприятия. И сегодня почетный гражданин Северодвинска В.А. Никонова в рабочем строю: много лет является председателем профсоюзной организации ветеранов.
Известная наша фронтовичка Валентина Андреевна Никонова родом с Украины. Ей исполнилось 19 лет, когда началась война.
Оборонный завод, на котором она работала, эвакуировался в Кемерово. Что это был за путь – об этом, по словам Никоновой, надо писать отдельную книгу, столько было горя, бомбежек, смертей. «Оставаться в Кемерово все время? Нет, только на фронт» – эта мысль не давала покоя ни Валентине, ни ее подругам. Осаждали военкомат, но девушек никуда не брали, поскольку у них не было нужных специальностей. Тогда она закончила курсы медсестер, но ее направляли секретарем комсомольской организации на механический завод.
Однако упорства Валентине было не занимать, и она своего добилась. Объявив маме, всем знакомым, что ее призвали в армию, Валя присоединяется к группе, направленной на обучение в школу младших авиаспециалистов – ШМАС. Там готовили укладчиков парашютов и авиамехаников. 50 отличников из ШМАС затем направляют в Москву, в школу связи. Здесь формируется отдельный полк связи для фронта. Валентина попала в него, несмотря на все трудности, освоила несколько специальностей по связи – работу на трех аппаратах: СТ-35, Морзе, БОДО, была одновременно механиком и техником. Связисты обслуживали воздушные армии всех Украинских фронтов. Киев, Львов, Краков, бои за Берлин… Валентина Никонова была среди тех десяти специалистов по связи, которых вызывали в Москву для обслуживания первого воздушного парада.
1945 год, демобилизация, Украина. Через два года она приезжает вместе с мужем Василием Матвеевичем в Молотовск. Они познакомились на фронте, дождавшись Победы, поженились, но об этом тоже можно писать отдельную книгу.
27 лет Валентина Андреевна возглавляла группу оформления документов отдела кадров предприятия. И сегодня почетный гражданин Северодвинска В.А. Никонова в рабочем строю: много лет является председателем профсоюзной организации ветеранов.
ВИЖУ ЦЕЛЬ
Он учился на третьем курсе Архангельского судостроительного техникума, когда грянула война. И хотя в 1941-м Валерию Спиридонову исполнилось только 17 лет, он был хорошим лыжником и отличным стрелком и считал, что его место в сражающейся армии. В учебном лыжном батальоне курсантов учили всему, что пригодилось уже через несколько месяцев на передовой: рыть окопы, ползать по-пластунски, бросать гранаты, идти в штыковую атаку и рукопашный бой, преодолевать многокилометровые дистанции. Карельский фронт, Советское Заполярье, Северная Норвегия – основные места дислокации хорошо натренированного отдельного лыжного батальона, в котором Валерию довелось пройти всю войну. Командовал отделением, взводом. Был тяжело ранен. В.Н. Спиридонов награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Вся дальнейшая судьба Валерия Николаевича связана с городом корабелов и Севмашем. Работал технологом и мастером в цехе 4, затем в отделе главного технолога.
***
В конце 1941 года на многих участках Карельского фронта установилось относительное спокойствие. У противника не было достаточных сил для дальнейшего наступления. Наши войска прочно удерживали стратегические пункты, но не имели возможности создать сплошной фронт. Между отдельными дивизиями десятки километров практически не защищались, и финские войска свободно проникали к нам в тыл, угрожая коммуникациям. С этим было покончено в феврале 1942 года, когда на фронт прибыли свежие части, в том числе и наш 188-й отдельный лыжный батальон численностью в 500 человек.
Два месяца продолжались изнурительные переброски батальона с одного направления на другое. Они срывали замыслы врага и создавали у него впечатление нашей многочисленности. Бригада не только закрыла финнам путь на большом участке фронта к единственной железной дороге, соединяющей Мурманск со страной, но и перешла к активным действиям против вражеских войск. Сосредоточение прекрасно вооруженной крупной части численностью свыше 3000 солдат и офицеров серьезно обеспокоило противника. Он был вынужден снять войска с других участков фронта и выставить против нас три полка, хотя раньше у него здесь был один батальон.
Для разгрома нашей бригады финны договорились с немецким командованием об организации крупного авиационного налета. Произошел он 6 августа 1942 года, в воздухе было 22 немецких бомбардировщика. События того дня, очевидно, никогда не забудутся, тем более, что мне пришлось непосредственно участвовать в отражении вражеского налета.
Еще в начале июня, когда в штаб бригады прибыли остатки от многих лыжных батальонов, потрепанных в весеннем наступлении, и новое пополнение, начальник штаба бригады выискивал среди наиболее грамотных и, по его мнению, подходящих солдат для взвода противовоздушной обороны – ПВО. Четырехмесячный опыт войны определил мою службу во взводе ПВО, несмотря на то, что я был самым молодым в бригаде.
На крышах двухэтажных домов со стороны наиболее вероятного появления воздушного противника мы оборудовали две позиции для стрельбы по самолетам из ручных пулеметов. На этих позициях было круглосуточное дежурство. Кроме того, около дома, где жил взвод, были еще две огневые точки, на одной из которых установлены два спаренных пулемета со сбитого финского истребителя. Мне как командиру отделения и лучшему стрелку было доверено быть первым номером на этом пулемете.
И вот на рассвете 6 августа нам сообщили по телефону о приближении большого количества вражеских самолетов. Мы немедленно предупредили об этом наши огневые точки, объявили воздушную тревогу, позвонили в штаб бригады и побежали к своим позициям. Через несколько минут появилась первая группа бомбардировщиков. По ним немедленно открыли огонь пулеметы, находившиеся на крышах домов. Вторая группа самолетов прошла над средней частью села. Наконец, третья группа бомбардировщиков полетела над линией домов, где находились наши две наземные точки. Как только первый самолет появился в прицеле в нужную величину, я нажал гашетку пулемета и выпустил длинную очередь, пока самолет не пролетел над головой. Бить ему вслед было почти бессмысленно, да и некогда, так как нужно было стрелять уже по второму самолету, а затем по третьему. От предыдущих самолетов бомбы падали несколько в стороне, и в пылу боя мы на них даже не обратили внимания. С третьим самолетом было не так. Когда я в него стрелял, он сбросил бомбу. Не отпуская гашетки пулемета, следил, как он падает, и вдруг ясно все осознал, что бомба летит прямо в меня. Через мгновение падаю с напарником на дно ячейки, и раздается взрыв страшной силы. Казалось, что земля перестала существовать. Сотрясение и грохот от взрыва были невероятно сильные. Придя в себя, бросился к пулемету, но из него стрелять уже было нельзя.
После окончания налета мы разглядели 8-метровую воронку от полутонной бомбы. Край ее был в трех метрах от нашей ячейки. Всего фашистские самолеты сбросили 122 бомбы, включая зажигательные. Только одна бомба весом 25 кг попала в цель, но и она не причинила серьезного урона. Это, может быть, единственный случай в войну, когда во время большого налета не было не только убитых, но и раненых. Главная заслуга в этом пулеметчиков нашего взвода ПВО, которые метким огнем заставили фашистских летчиков резко увеличить высоту полета, в результате чего бомбы падали и взрывались в стороне от целей.
В то же время до боли в сердце было обидно, что из-за увеличения высоты ни один из фашистских стервятников не рухнул на наших глазах. Трассирующие пули позволяли видеть, как очереди прошивают самолеты врага, но они все улетели. Будь у нас хоть один крупнокалиберный пулемет, и враг нашел бы себе могилу. Оказалось, что немецкие бомбардировщики прикрывались финскими истребителями, которые кружили в стороне над лесом. Мы их заметили после того, как улетел последний бомбардировщик. Истребители сделали попытку атаковать нас, но после нескольких очередей наших пулеметов трусливо улетели. Через день прилетел вражеский разведчик и зафиксировал для немецкого командования полный провал фашистского налета на штаб нашей бригады.
Он учился на третьем курсе Архангельского судостроительного техникума, когда грянула война. И хотя в 1941-м Валерию Спиридонову исполнилось только 17 лет, он был хорошим лыжником и отличным стрелком и считал, что его место в сражающейся армии. В учебном лыжном батальоне курсантов учили всему, что пригодилось уже через несколько месяцев на передовой: рыть окопы, ползать по-пластунски, бросать гранаты, идти в штыковую атаку и рукопашный бой, преодолевать многокилометровые дистанции. Карельский фронт, Советское Заполярье, Северная Норвегия – основные места дислокации хорошо натренированного отдельного лыжного батальона, в котором Валерию довелось пройти всю войну. Командовал отделением, взводом. Был тяжело ранен. В.Н. Спиридонов награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Вся дальнейшая судьба Валерия Николаевича связана с городом корабелов и Севмашем. Работал технологом и мастером в цехе 4, затем в отделе главного технолога.
***
В конце 1941 года на многих участках Карельского фронта установилось относительное спокойствие. У противника не было достаточных сил для дальнейшего наступления. Наши войска прочно удерживали стратегические пункты, но не имели возможности создать сплошной фронт. Между отдельными дивизиями десятки километров практически не защищались, и финские войска свободно проникали к нам в тыл, угрожая коммуникациям. С этим было покончено в феврале 1942 года, когда на фронт прибыли свежие части, в том числе и наш 188-й отдельный лыжный батальон численностью в 500 человек.
Два месяца продолжались изнурительные переброски батальона с одного направления на другое. Они срывали замыслы врага и создавали у него впечатление нашей многочисленности. Бригада не только закрыла финнам путь на большом участке фронта к единственной железной дороге, соединяющей Мурманск со страной, но и перешла к активным действиям против вражеских войск. Сосредоточение прекрасно вооруженной крупной части численностью свыше 3000 солдат и офицеров серьезно обеспокоило противника. Он был вынужден снять войска с других участков фронта и выставить против нас три полка, хотя раньше у него здесь был один батальон.
Для разгрома нашей бригады финны договорились с немецким командованием об организации крупного авиационного налета. Произошел он 6 августа 1942 года, в воздухе было 22 немецких бомбардировщика. События того дня, очевидно, никогда не забудутся, тем более, что мне пришлось непосредственно участвовать в отражении вражеского налета.
Еще в начале июня, когда в штаб бригады прибыли остатки от многих лыжных батальонов, потрепанных в весеннем наступлении, и новое пополнение, начальник штаба бригады выискивал среди наиболее грамотных и, по его мнению, подходящих солдат для взвода противовоздушной обороны – ПВО. Четырехмесячный опыт войны определил мою службу во взводе ПВО, несмотря на то, что я был самым молодым в бригаде.
На крышах двухэтажных домов со стороны наиболее вероятного появления воздушного противника мы оборудовали две позиции для стрельбы по самолетам из ручных пулеметов. На этих позициях было круглосуточное дежурство. Кроме того, около дома, где жил взвод, были еще две огневые точки, на одной из которых установлены два спаренных пулемета со сбитого финского истребителя. Мне как командиру отделения и лучшему стрелку было доверено быть первым номером на этом пулемете.
И вот на рассвете 6 августа нам сообщили по телефону о приближении большого количества вражеских самолетов. Мы немедленно предупредили об этом наши огневые точки, объявили воздушную тревогу, позвонили в штаб бригады и побежали к своим позициям. Через несколько минут появилась первая группа бомбардировщиков. По ним немедленно открыли огонь пулеметы, находившиеся на крышах домов. Вторая группа самолетов прошла над средней частью села. Наконец, третья группа бомбардировщиков полетела над линией домов, где находились наши две наземные точки. Как только первый самолет появился в прицеле в нужную величину, я нажал гашетку пулемета и выпустил длинную очередь, пока самолет не пролетел над головой. Бить ему вслед было почти бессмысленно, да и некогда, так как нужно было стрелять уже по второму самолету, а затем по третьему. От предыдущих самолетов бомбы падали несколько в стороне, и в пылу боя мы на них даже не обратили внимания. С третьим самолетом было не так. Когда я в него стрелял, он сбросил бомбу. Не отпуская гашетки пулемета, следил, как он падает, и вдруг ясно все осознал, что бомба летит прямо в меня. Через мгновение падаю с напарником на дно ячейки, и раздается взрыв страшной силы. Казалось, что земля перестала существовать. Сотрясение и грохот от взрыва были невероятно сильные. Придя в себя, бросился к пулемету, но из него стрелять уже было нельзя.
После окончания налета мы разглядели 8-метровую воронку от полутонной бомбы. Край ее был в трех метрах от нашей ячейки. Всего фашистские самолеты сбросили 122 бомбы, включая зажигательные. Только одна бомба весом 25 кг попала в цель, но и она не причинила серьезного урона. Это, может быть, единственный случай в войну, когда во время большого налета не было не только убитых, но и раненых. Главная заслуга в этом пулеметчиков нашего взвода ПВО, которые метким огнем заставили фашистских летчиков резко увеличить высоту полета, в результате чего бомбы падали и взрывались в стороне от целей.
В то же время до боли в сердце было обидно, что из-за увеличения высоты ни один из фашистских стервятников не рухнул на наших глазах. Трассирующие пули позволяли видеть, как очереди прошивают самолеты врага, но они все улетели. Будь у нас хоть один крупнокалиберный пулемет, и враг нашел бы себе могилу. Оказалось, что немецкие бомбардировщики прикрывались финскими истребителями, которые кружили в стороне над лесом. Мы их заметили после того, как улетел последний бомбардировщик. Истребители сделали попытку атаковать нас, но после нескольких очередей наших пулеметов трусливо улетели. Через день прилетел вражеский разведчик и зафиксировал для немецкого командования полный провал фашистского налета на штаб нашей бригады.
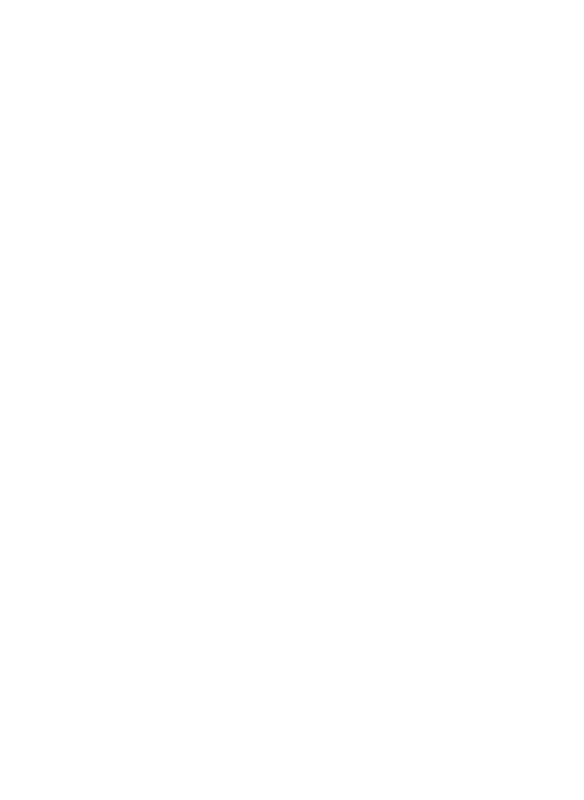
СПИРИДОНОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Технолог, мастер цеха №4 отдела главного технолога Севмаша
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Технолог, мастер цеха №4 отдела главного технолога Севмаша
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
